- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Заказать консультацию
Наука как мифическое мышление
В признании того факта, что научное мышление есть мышление мифическое, нет, собственно, ничего эпатирующего. Я уже показал, что научное мышление в принципе ничем не отличается от обыденного мышления.
Обыденное же мышление человека в своей сущности есть мышление мифическое. Науку в этом смысле можно определить как систематизированное и логически упорядоченное мифическое мышление.
Мифичность же человеческого мышления обусловливается в глубинной своей основе следующими обстоятельствами:
- особой природой чувственных восприятий внешнего мира человеком. Он воспринимает его в полном соответствии со спецификой данных ему от природы пяти чувств и центральной нервной си- стемы, рамками которых ограничивается как конкретно-предметное, так и целостное восприятие внешнего мира. Это восприятие можно считать условно «объективным», но исключительно в пределах человеческого рода и постольку, поскольку другого восприятия ему не дано;
- воображением человека, которое на основе чувственных восприятий создает мысленные конструкции, модели и образы внеш- него мира. Эти модели целиком и полностью мифичны как по своему происхождению, так и содержанию;
- языком, который будучи сам продуктом функции воображения, закрепляет мифичность создаваемых мыслительных конструкций в словах и понятиях. Любое слово и понятие мифичны по самой своей природе. Наука в этом смысле ничем не отличается от других сфер деятельности человека.
Вот почему не соответствуют действительности суждение, что «…наука в своем теперешнем виде развилась из мифов, образованных посредством слова. Самый миф сходен с наукой в том, что он также создан стремлением к объективному познанию мира»12 (кур- сив мой. — Э.П.).
Это не так: наука развилась не из мифов — она сама есть своеобразная форма мифа. Между наукой и мифом, даже если миф рассматривать в традиционном значении, нет принципиального различия.
И наука, и миф суть формы мировидения и миросозерцания человека на разных этапах его развития, и можно сказать, нисколько не преувеличивая, что древние мифы — это наука тех далеких от нас времен, а наука наших дней — это современный рационально упорядоченный миф.
Упорядоченное мировидение первобытных людей мы называем «мифом», а упорядоченное мировоззрение современного человека — «наукой». Вся разница только в названиях и в словах, лежащих за каждым названием. Сама же мифичность как специфическая форма человеческого восприятия и толкования созерцаемого мира остается и там, и тут.
Можно поэтому утверждать: нет мышления мифического и немифического, а есть лишь разные типы мифического мышления с разным их содержанием — вот один из них и представляет наука.
Вера же в «объективность» научного мышления берет свое начало с эпохи Просвещения с ее верой в могущество разума. Но уже в конце XVIII века сначала Юм, а затем Кант показали принципиально субъективный характер научного знания.
Несмотря на известные различия в подходах, оба философа согласны с тем, что наука не дает знания о самом бытии, а является хотя и общезначимой в пределах человеческого рода, но тем не менее умственной (воображаемой) конструкцией этого бытия.
Несколько позже, уже во второй половине XIX столетия, австрийский ученый и философ Эрнст Мах определил всякую физическую теорию как абстрактное и обобщенное описание явлений природы.
«Французские энциклопедисты XVIII века, — писал он, — думали, что они были недалеки от окончательного объяснения мира физическими и механическими принципами…
Но теперь, по истечении столетия, когда наше суждение стало трезвее, миропонимание энциклопедистов представляется нам механической мифологией, не далекой от анимистической мифологии древних религий. Оба эти взгляда содержат неправильные и фантастические преувеличения неполного восприятия».
В последующие десятилетия совместные усилия таких выдающихся ученых, как Г. Герц, П. Дюгем, А. Пуанкаре, В. Оствальд, В. Томсон и др., показали, что любая физическая теория есть не более чем символическое описание внешнего мира, а значит, описание упрощенное, схематическое, соответствующее крайне ограниченным познавательным возможностям человека.
Кстати, до сих пор нет согласия в вопросе, описанием чего имен- но является физика и другие естественные науки — описанием ли наших специфических представлений-образов и ощущений или описанием реального предметного мира? Но каким бы символически- мифическим это описание ни было, принимая в тот или иной период времени общезначимый характер, оно тем самым как бы «объективируется», и очередной научный миф (гипотеза) условно принимается за «истину».
Статьи по теме
Полезные статьи


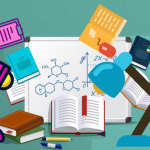




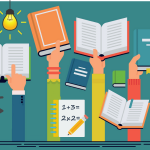

Узнайте цену услуг:
Узнай цену консультации
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)

